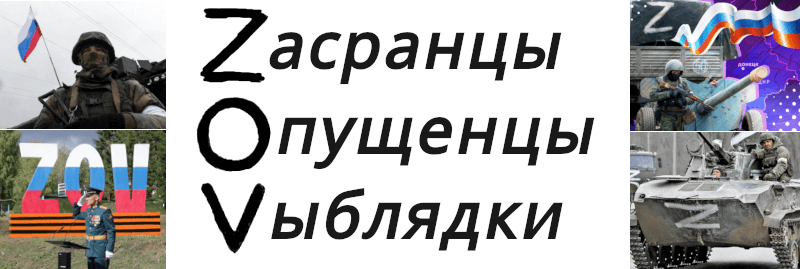«Мужу спиливали зубы, он орал от боли, а я слушала его крики». Исповедь жителей Херсона о жизни в оккупации
Российская армия захватила Херсон в начале весны, всё это время оккупанты активно боролись с несогласными. После освобождения города СБУ обнаружила камеры пыток и сотни могил. Жители Херсона рассказали The Insider, как военные похищали и истязали людей в подвалах, отбирали автомобили, грабили дома и заставляли работать на оккупационные власти, угрожая расстрелом.
Ольга Куц: «Следователь читал мне морали, пока в соседней камере мужчины орали от боли»
Я всю жизнь прожила в Херсоне, работала с детьми — учила их играть на музыкальных инструментах. За день до начала вторжения мы собирались выходить на работу вживую после карантина. Было ощущение, что обычная жизнь возвращается. Но утром мне позвонила близкая подруга и сказала, что началась война. Никто до этого не знал, что такое «Грады» или ракеты. Только когда российские военные зашли в город, мы стали понемногу осознавать, какой ужас происходит вокруг.
В Херсоне много людей разных национальностей: украинцы, русские, евреи, армяне. Война помогла понять, что Украина — наш дом, мы стали единым целым. Люди начали выходить на массовые митинги, а российские военные не понимали, почему их радостно не встречают. Протесты шли весь март и апрель — мы пытались доказать, что никто их сюда не звал.
Ближе к лету оккупанты начали внушать нам свои взгляды и перестраивать всё на свой лад. В мае я часто стала слышать истории от знакомых, которые видели, как мужчин вытаскивали из маршруток, избивали и увозили в неизвестном направлении. Изначально простых людей никто не трогал: вояки ходили и выискивали по своим спискам. Их больше интересовали депутаты, волонтеры и бывшие сотрудники полиции.
С приближением «референдума» ожесточилась и обстановка: оккупанты начали устанавливать блокпосты и проверять телефоны у людей на улицах. Когда они находили что-то подозрительное — забирали на допрос, что в большинстве случаев означало избиения и пытки в подвалах. В конце лета началась охота на активистов, и я понимала, что как блогер нахожусь в зоне риска.
Я завела TikTok, где искала моральную поддержку у других украинцев. На тот момент в стране была непростая ситуация. Херсонцы стали думать, что про них все забыли — оккупанты наседали, а украинская власть как будто бездействовала. Снимая видео в TikTok, я старалась не только показать всей Украине, что Херсон борется за свою свободу, но и доказать своим подписчикам, что мы не одни. Я стала проводить прямые эфиры и таким образом набрала значительную аудиторию, но это привлекло внимание оккупационных властей.
Накануне Дня Независимости 24 августа мне позвонили из школы и предложили вернуться на работу, но под эгидой российской власти. Я категорически отказалась, а через пару дней к нам в дом ворвались 15 человек с автоматами и увезли нас. Я провела в подвале десять дней, муж — два месяца.
Всё это время нас держали в камерах, расположенных напротив друг друга. Мы узнали, что в этом же месте держат и Елену Наумову — еще одного известного блогера из Херсона. Девушек, кроме нас, там не было — мы с Леной были первыми, кого они взяли.
Когда нас привезли, то меня сразу отправили на допрос — спрашивали, кто я, откуда, как стала таким ярым патриотом. В это время моего мужа избивали в соседней камере. С мужчинами они обращались особенно жестко. Я слышала нечеловеческие крики мужа, которые мешались еще и с криками других мужчин — они просто пищали от боли. На этом фоне мне продолжали читать морали, а потом отправили «подумать» в камеру, где были только голый бетон, обшарпанные стены, сырость, холод и два стула.
В каждом помещении были установлены камеры, которые снимали нас круглосуточно. Нельзя было спать — запрещали, мы могли только немного вздремнуть, когда они уходили, то есть примерно после двух часов ночи.
Если заходил кто-то из военных, я должна была сразу надевать на голову пакет и не снимать его. Иногда они врывались, сразу же нанося удары по голове и рукам. Били всем, что могли найти, — полицейскими дубинками, бутылками. Просто били и уходили. Один раз я осмелилась спросить, зачем они это делают, а ответ был прост: потому что я украинка и мы все в Херсоне притесняем русскоговорящее население. У нас в городе 70% разговаривают на русском, даже если взять мою семью — мать у меня русская и никогда не чувствовала никакой дискриминации. Но что-то доказывать тут бесполезно: они ничего не понимают и не слышат. Возможно, завидуют, потому что видели, что я достаточно счастлива: у меня есть семья, близкие друзья и любимый человек, который берет всю вину на себя, чтобы меня никто не трогал.
Мне повезло больше, чем мужу: ко мне не применяли электрошок. К сожалению, у мужа был и электрошок, и спиливание задних зубов, и переломанные ребра от частых избиений. Я видела, как он терял сознание, и военным буквально приходилось затаскивать его тело в камеру. Его могли оставлять там и на четверо суток, и на неделю без еды и воды. В первый месяц его травмировали только физически, а когда на муже не осталось ни одного живого места, принялись давить морально. Ему рассказывали, что я не блогер, а агент и работаю на СБУ, а Киев пишет мне сценарий.
На второй день я поняла, что мне нужно элементарно сходить в туалет. Я слышала, что за дверью кто-то ходит — новых людей приводили и уводили постоянно, и в помещении всегда был дежурный. Я постучала и сказала, что мне нужно в туалет, на что мне ответили: «Ты украинская мразь и этого не заслуживаешь! Ходи под себя, как животное». И так продержали пару дней — пришлось испражняться в одном из углов камеры. Потом мне дали хотя бы ведро. Может быть, просто повезло, потому что дежурные чередовались, и кто-то был жестче, а кто-то — добрее.
Кормили нас раз в день, чаще всего испорченными продуктами. Первые два дня от еды я отказывалась, нам приносили московскую тушенку, покрытую жиром сверху донизу. На мои протесты всегда был ответ — они швыряли мне едой в лицо. А душа, конечно же, у нас никакого не было.
Потом стали давать херсонскую продукцию, правда, тоже просроченную. Когда я открывала контейнер с чем-то вроде каши, воняло страшно. На прием пищи нам давали 30–40 секунд. Из-за этого я похудела килограммов на 12, все, кто находится в плену, сбрасывают вес моментально. С водой ситуация была не лучше. Сначала мне дали поллитра на три дня, а осознав, что я украинская нацистка и мразь, стали носить ржавую воду с хлопьями из туалета. У меня до этого и так были больные почки, но во время плена стало хуже — появились камни, и справлять нужду стало невыносимо.
Мне кажется, что я осталась жива лишь благодаря тому, что один из следователей, проводивший допросы, испытывал ко мне какую-то индивидуальную симпатию. Он никогда не прикасался ко мне и не обзывал, как остальные. Если было его дежурство, то мне, помимо каши, могли принести и булку.
На допросах мы обсуждали мои видео в TikTok. Меня спрашивали, почему Херсон — это Украина и почему я плохо отзываюсь о российских военных в своих роликах, почему я их так ненавижу. Но за что мне их любить? Они пришли и разрушили мою жизнь, вторглись в мой дом. Я была вынуждена наблюдать, как мои ученики бегут из города под обстрелами. Как после этого я могу улыбаться и говорить [оккупантам], что они классные? Они привыкли, что ими всегда кто-то командует, а в Херсоне такого нет — у нас свободная страна, и каждый говорит и делает то, что он хочет.
Мне до последнего предлагали работать на российскую власть. Когда они поняли, что семья для меня — больное место, стали шантажировать и угрожать, что убьют всех моих близких. Это непростая ситуация: если бы я согласилась, в Украине за сотрудничество мне бы дали 15 лет колонии, а если бы отказалась, они могли бы меня вывезти в Россию. Но я решила, что если меня убьют, то пусть, но соглашаться на сотрудничество с этими людьми я никогда не буду. У мужа была такая же позиция.
На десятый день у меня развилась ротовая инфекция (нас всех кормили из одной ложки, а бутылки из-под воды были грязные из-за ржавчины). У меня очень сильно опухло горло, из-за чего я стала часто задыхаться и попросила вызвать врача. Меня отвели в допросную. После того, как они удостоверились, что я правда нахожусь в плохом состоянии, отправили обратно в камеру. Спустя время ко мне пришли и сказали собираться на расстрел, а у меня, кроме пакета, ничего и не было. Когда меня грузили в машину, я уже приняла тот факт, что могу умереть, но меня успокаивала мысль, что я сделала всё по совести.
На самом деле меня привезли домой и посадили под домашний арест. У меня забрали все документы, чтобы я не смогла покинуть город, и дали свод правил: ни с кем не контактировать, на улицу не выходить, а родители пусть говорят друзьям и остальным херсонцам, что я либо умерла, либо выехала.
Ольга Куц с мужем
Когда я зашла в дом, то была в состоянии немого шока: оккупанты забрали всё, даже мою именную зажигалку — подарок мужа.
Всё это время ко мне приезжали с проверками, чтобы удостовериться, что я веду себя тихо и действительно никуда не выхожу. Про мужа мне сказали забыть и, естественно, никакой информации о нём не давали. Нам запрещались любого рода контакты, потому что в их глазах мы были двумя террористами. Мужу говорили, что, если они его отпустят, он ни в коем случае не должен со мной связываться. Они были уверены, что Херсон навсегда останется в их власти и что город по-другому не сможет существовать.
В один из дней они приехали и приказали собрать вещи, мои и мужа, для эвакуации в Украину, по их словам, в Херсоне террористам делать нечего. Но по состоянию здоровья эвакуация для меня была невозможна, я им заплатила за свою свободу и отдала чемодан с вещами мужа. С этим было очень сложно справиться морально: я не знала, где он и в каком состоянии. Его могли увезти в Крым на суд, а могли и давно убить.
За два дня до его возвращения я смирилась с тем, что уже больше никогда его не увижу.
Людмила Вовчук: «Из подъезда постоянно выводили людей с пакетом на голове»
После оккупации поначалу было страшно, многие фейковые новости вызывали панику. Цены выросли в четыре раза, поэтому мы всё покупали в машинах, стоящих на рынке. Кто-то для закупки продуктов и медикаментов ездил в Крым, кто-то привозил из Запорожья, но вскоре запретили любую украинскую продукцию. Были и те, кто закупался в российских магазинах, обычно это были люди, которые шли на сотрудничество с оккупационными властями и получали зарплату в рублях или же какие-то пособия. Мы принципиально не брали рубли и рассчитывались только гривнами.
Людмила Вовчук
Об освобождении Херсона узнали не сразу — не было ни света, ни связи. Ее начали глушить в мае, и так длилось вплоть до конца оккупации. Российские SIM-карты мы не покупали и мобильным интернетом не пользовались, потому что через него нельзя было зайти ни на один украинский сайт, открыть что-то можно было только через VPN.
Телефон был не нужен, да и мало кто брал его в город — на блокпостах могли возникнуть проблемы, если бы военные обнаружили что-то, связанное с поддержкой Украины. За это они могли внести человека в специальную базу, после чего у него отрубалась возможность выехать из города.
Психологически было тяжело: оккупанты отбирали машины прямо на посту, забирали их со стоянок жилых домов, а также выбивали двери квартир и выносили всё, что могли. У наших друзей есть частный дом, куда ворвались оккупанты и, глядя им в лицо, заявили: «У вас есть только день, чтобы выехать, теперь здесь будем жить мы».
После шести вечера местные старались не выходить на улицы, чтобы не наткнуться на оккупантов, разъезжающих на ворованных автомобилях по городу. Но бывало, мародерили и херсонцы — разбивали витрины, помогая оккупантам выносить технику и дорогостоящие вещи из ТЦ. В таких случаях за помощью обратиться было не к кому — полиция уже не функционировала, а теробороне запретили въезд в город.
Из окон квартиры часто можно было наблюдать, как из подъезда выводят людей с пакетом на голове. Когда машины военных только заезжали во двор, нельзя было предугадать, кому из соседей сегодня выломают дверь. Многие депутаты выезжали по поддельным документам, так как дорога всегда была открыта только одна. По ней оккупанты доставляли свою технику, например, в Николаев, прикрываясь параллельно колонной мирных жителей. Потом эту дорогу закрыли и открыли другую — на Кривой Рог, а после взрыва моста открыли направление на Запорожье.
Выезд из Херсона без денег или машины был практически невозможен. Автобусы брали с человека по 5–8 тысяч. Самый сложный путь — выехать через Крым, потому что там стояли фильтрационные лагеря, после которых тебя могли вернуть обратно в Херсон или же забрать.
Детей старались вывозить в лагеря, подальше от боевых действий. Наши соседи отправили своих в Крым, но столкнулись с тем, что не смогли вернуть их обратно — в итоге они с детьми были вывезены куда-то в Краснодарский край. Практически всех детей-сирот из интернатов забрали на территорию России, а оставшихся старались пристроить хотя бы к дальним родственникам.
Во время оккупации мой муж работал в гараже и чинил машины, вскоре на него донесли местные. Оккупанты приехали к мужу с автоматами и потребовали сотрудничать с ними. Он, естественно, отказался, тогда они его избили и пригрозили, что если он соберется выезжать из города, то и его, и семью расстреляют на первом блокпосту. Другу мужа повезло меньше: его похитили и держали три месяца в Голой Пристани. При этом у него забрали две машины.
Но люди не всегда умирали или страдали из-за своей волонтерской деятельности. Друга моего мужа убили, когда он был с семьей на даче за пределами города. Просто оккупантам не понравилось его поведение. Позже эту смерть задекларировали как пьяную драку с летальным исходом.
На водоканале людям насильно выдавали русские паспорта и после этого мужчин отправляли воевать на стороне оккупантов. О них до сих пор ничего не известно. Тех, кто отказывался, отправляли в Херсонское СИЗО. Это всё неимоверно страшно, но мы до последнего ждали ВСУ, даже сшили флаги на заказ. Потом радость сменилась очередным стрессом. Спустя две недели после освобождения прилеты в жилые дома возобновились, и мы приняли решение уехать ради собственной безопасности. Опять стало страшно ходить по городу, ведь никогда не знаешь, где они могут ходить переодетыми.
Мария (имя изменено): «Ходили по нашей квартире и забирали себе все, что им понравится»
Однажды мы с мамой были в аптеке и разговаривали с фармацевтом по-украински. Тут зашел мужчина в гражданском и говорит, обращаясь к фармацевту: «Вас здесь заставляют говорить на украинском?» Моя мать к нему повернулась и сказала, что в своей стране она будет говорить на том языке, на котором захочет. А он посмотрел на нее и ответил, что за такие разговоры отвезет ее на подвал и там уже они решат, кто и на каком языке будет разговаривать. Мать поняла, что тут не о чем спорить. Мы купили лекарства и вышли, потом шли и тихо плакали по дороге домой.
Но к такому можно адаптироваться. Ад случился, когда оккупанты забрали моего брата. Они пришли в шесть утра — около 10 человек с автоматами, в брониках, касках и щитах. Дверь открыл папа. Увидев его, они сразу начали кричать: «Выходите в подъезд!» Он пошел босиком, следом — мать, а оккупанты начали по одному заходить в квартиру, сестре пришлось выбежать в одеяле.
Они допрашивали маму и папу прямо в подъезде, пытались выяснить, где брат. На этот случай у нас была готова легенда: брат выехал в Польшу, мы с ним не общаемся. Тогда они стали смотреть контакты в телефонах, галерею, спрашивать, есть ли у нас «Сигнал», но мы давно удалили все переписки, поэтому ничего подозрительного они не нашли.
Но как бы мы ни пытались спасти брата, в июле они все-таки выследили его и увезли. Он был в доме своего друга, которого тоже забрали. Они, вероятно, знали, где искать, хотя мы всеми силами старались быть осторожными — всегда смотрели, не идет ли кто-то за нами, когда выходили на улицу, не позволяли парням высовываться из дома.
В день, когда забрали брата, с обыском приехали и к сестре, и к его невесте. Самым циничным было то, что они показали ей ключи от квартиры, которые забрали у брата, когда его увозили. Спустя два дня мы его нашли, его держали в следственном изоляторе — своеобразная местная пыточная. Мы носили ему передачки, просили встречи со следователями, но этого нам никто не позволял. Однажды они сказали, чтобы мы приходили на следующий день, якобы тогда должен был быть следователь, но когда мы пришли и постучали в дверь, нам сказали: «Идите домой, здесь следователей нет и никогда не было, кто-то из военных над вами пошутил». Потом подъехала машина, и из нее вышел оккупант, подошел к двери, позвонил и говорит: «Это сокол. Приехал поработать». Ему открыл какой-то человек, и невеста брата показала на него пальцем и говорит: «Это же следователь?» Они нам кивнули, но всё равно закрыли дверь перед носом. Так продолжалось всё лето.
Каждый раз, когда мы приходили, оккупанты, стоящие в дверях, издевались над нами, говоря: «Мы исправим ваших рецидивистов и отпустим домой». Потом они забрали еще двух наших знакомых, мы им тоже носили передачки. И тот, кто принимал их, говорил нам: «У вас все знакомые в Херсоне — рецидивисты?»
Он называл нас «три мушкетера», потому что мы всегда ходили втроем. Однажды мы снова пришли, а он нам говорит: «Может, вас тоже забрать? Сколько можно ходить и носить эти передачки? Положили еду — и пошли, а вы стоите и всё выспрашиваете тут». Его бесило, что мы пытаемся узнать, в каком брат состоянии. Он всегда отвечал: «У нас тут никто не жалуется».
Пока мы стояли в очереди, случалось разное — кого-то побили, кого-то вывели и не вернули. Помню, там был один мужчина, к которому подошли военные и говорят: «Давай нам свою машину, она нам нужна». Он им отвечает: «Нет». А они: «Мы сейчас тебя изобьем, подержим в подвалах и тогда посмотрим, что ты скажешь». И мужчина говорит: «Сегодня машина, а завтра жена или как?» На одной из передачек было написано «Ирина». Как оказалось, мужчина принес передачку своей жене.
Спустя полтора месяца после задержания брата оккупанты пришли в одну из тех квартир, где он прятался. Сработала камера с датчиком движения. Девушка хозяина квартиры — медработник, и оккупанты вынесли коробку термометров, пульсоксиметр, тонометр, пауэрбанки, ноутбук, флешки. Когда мы смотрели это видео, то были в шоке. Они спокойно ходили по квартире и мародерили, потому что первые минут семь не замечали камеру. Забрали всю бижутерию, перевернули вещи в шкафах, при этом спрашивая друг друга: «А тебе вот это надо? А это? Пацаны, а кому нужно вот это?» Меня аж трясет, когда вспоминаю.
В сентябре мы пришли с очередной передачкой для брата, но его в изоляторе уже не было. Нам сказали, что его будут судить в Крыму за то, что он нанес ущерб России, добавив, чтобы мы не расстраивались, потому что его могли убить, а так просто осудят. Тогда мы купили российские SIM-карты и начали звонить в государственные органы Крыма, где нам постоянно отвечали, что такого не может быть. «Может быть, вашего брата задержали военные Украины в российской форме?» От таких слов сердце разрывалось.
Сейчас у нас есть только ответ от ФСБ с формулировкой, что «данное лицо содержится в условиях, которые исключают вероятность угрозы жизни и здоровью», и в отношении этого лица «ведется расследование». Мы обращались и в СБУ, и в полицию, и в Красный Крест. В конце концов мы добились того, что брата включили в списки на обмен — нам сказали, что он есть в национальном списке поиска, где значится как человек, которого удерживают российские власти.
Когда в город зашли наши воины, мы об этом даже не знали — совсем не было связи, и это стало приятной неожиданностью. И то, что мы последние 20 дней жили без воды, света и тепла, потеряло значение. Питьевую воду мы набирали в церкви, а когда шел дождь, набирали дождевую — техническую воду. В ванной было холодно, аж пар изо рта шел. Поэтому купались очень быстро, грели воду в кастрюльках, а волосы сушили над газом. Нам еще повезло, что был газ, ведь у кого-то электрические плиты. Вечером читали со свечой, но после прихода ВСУ это уже не беспокоило — главное, что мы были свободны.
Аня (имя изменено): «Суммы выкупа были запредельные, 5 тысяч долларов»
Я из Херсонской области, жила недалеко от Геническа. В Херсон приехала учиться еще в 2012 году и встретила тут будущего мужа. Теперь моя семья разбросана и по левому, и по правому берегу. Последний раз я виделась с родственниками до войны — в начале февраля.
По профессии я бровист-визажист. Практически все мои клиенты уехали еще в начале вторжения, но оставшихся я продолжала принимать дома. «Сарафанное» радио работало хорошо, и к началу сентября у меня было больше новых клиентов, нежели старых. В конце сентября почти все клиенты уехали, и работа превратилась в хобби.
Какое-то время в доме еще работал Wi-Fi, и я могла переписываться с друзьями, что отвлекало и успокаивало. Позже мы забыли, что такое интернет, а телефон использовали лишь для того, чтобы что-то сфотографировать. Коммуникация в городе происходила только благодаря бумажным листовкам на столбах рядом с остановками и рынками, как в былые времена.
Объявления в Херсоне
Ко мне часто приходили люди из моего родного поселка. Они умудрялись навещать близких, оставшихся там. Мы с мужем опасались ездить на машине через степи и проходить двадцать два блокпоста — нам хватало информации от односельчан, а после референдума особенно старались лишний раз не рисковать. Мой муж — молодой парень, и мы понимали, что с ним могло случиться на улицах города. Поначалу я выходить не боялась, но это было из-за глупости и ощущения подавленной агрессии, ненависти к оккупантам, которых можно было встретить даже в магазине. Было просто неприятно видеть, что они здесь. Я поняла, что старалась избегать их, чтобы не сказать что-то лишнее. Я выучила маршруты, где риск наткнуться на военных или блокпост был минимален. Но у меня была постоянная клиентка, жившая на Острове — это район, где обойти блокпост было невозможно. И каждый раз, когда она выезжала в другую часть города, ее просили сдать телефон на проверку.
С мужчинами было еще сложнее — иногда их не только выводили из транспорта, проверяли телефоны, но и полностью раздевали прямо на улице, стараясь найти националистические татуировки. Был случай, когда у нашего знакомого, который работал в Херсонском самоуправлении еще до оккупации, нашли старый рабочий чат. Там его уехавшие коллеги обсуждали происходящее. Военные записали паспортные данные знакомого, полностью обыскали его и внесли в список с пометкой, что он состоит в неблагоприятном чате. Поэтому, выходя на улицу, все старались максимально удалять чаты и фотографии в телефоне.
К сожалению, среди наших друзей есть много волонтеров, которых забирали в подвалы. Один из них говорил, что там находились дольше всех те, за кого не могли заплатить, а суммы выкупа были запредельные — около пяти тысяч долларов. Но спустя три-четыре месяца пыток пленные переставали представлять для них интерес, и их отпускали. Бывало и так, что человека забирали не потому, что он активист или волонтер, а потому что его лицо не понравилось.
Наших ребят поймали на одной из вылазок на Антоновском мосту. Они рассказывали, что хуже всего было, когда в камеру приходили фээсбэшники, а не простые солдаты — они оказывали достаточно сильное психологическое давление. Одному из наших друзей, который активно вел прямые эфиры, очень повезло: когда к нему вломились военные, его не было дома — соседи успели предупредить, увидев, как во двор въезжают оккупанты. Он долго скрывался, но потом всё же смог вернуться. Двери были разбиты, а на стене красовалась буква Z. Кроме того, оккупанты забрали его машину и технику.
Парней и девушек часто находили из-за соседей — многие доносили. Бывало, что человек не вел активной деятельности, а просто не нравился соседям, и они вызывали военных для обыска и задержания. Однажды мы наблюдали, как в подвал забрали 70-летнего мужчину. Его сын служил в ВСУ с начала войны, и соседи дали наводку на дом, где он проживал вместе с отцом. Оккупанты приехали туда, нашли в доме гранаты и забрали отца, а потом пытали и допрашивали.
Но больше всего, как ни странно, меня шокировало не это, а то, что случилось уже после освобождения, — прилеты. Удары настолько мощные, что это размывает все предыдущие впечатления. Недавно прилетело рядом с причалом, где мы набирали воду, когда всё было отрублено, и удар был настолько мощный и громкий, что я невольно расплакалась, хотя видела, как вылетают ракеты еще в период оккупации — тогда как раз обстреливали Николаев.
Марина Мартиненко: «Когда мы срывали билборды, херсонцы плакали, а потом сами сжигали их»
Марина Мартиненко
В Херсон я приехала на следующий день после деоккупации — от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Сначала было очень тяжело и физически, и морально. В херсонских пожарных частях не было абсолютно ничего — оккупанты вывезли всё оборудование и технику, а то, что не смоги вывезти, уничтожили. Нам пришлось всё обустраивать заново буквально за 1–2 дня. Необходимо было восстановить поврежденную инфраструктуру — в городе не было света, связи и воды. Мы часто не могли найти друг друга даже среди спасателей, потому что невозможно было с кем-то связаться. Стало проще, когда начали устанавливать Starlink.
Меня особенно поразила реакция херсонцев. Когда они нас встречали, они плакали, обнимались, смеялись. Прибежало большое количество людей с флагами, которые несли всё, что у них было, чтобы нас накормить — бутерброды, овощи, фрукты, при том, что мы сами готовились им помогать. Они хотели показать, как сильно нас ждали.
Сорванный билборд в Херсоне
Марина Мартиненко
По собственной инициативе мы взяли пожарные машины, стремянки и ездили по городу, обрывая билборды, на которых было написано: «Россия здесь навсегда». Мы просто не могли смотреть на эти вывески, и другие коммунальные службы нам в этом помогали. Хотелось, чтобы люди не видели этого и не читали. Когда мы срывали билборды, приходили херсонцы, плакали, аплодировали, даже сами сжигали их. Невероятно злило, если находили в помещениях портреты Путина или российские флаги. Когда в одном из ящиков пожарной части мы обнаружили шевроны от российской формы, хотелось все их сжечь.
Меня очень поразило, как одна женщина в разговоре со мной сказала: «Мы понимаем, что нас будут обстреливать, но мне не страшно. Лучше обстрелы, чем жизнь в оккупации».
https://theins.ru/confession/257790