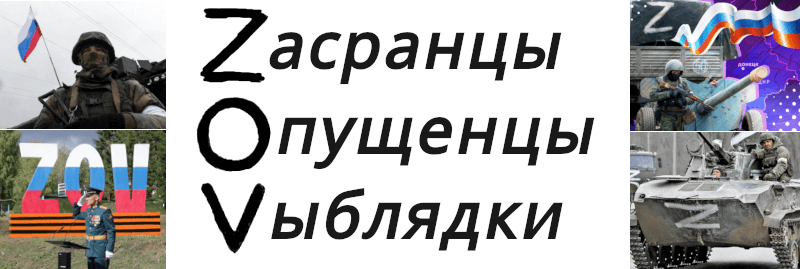Почему нигде в мире нет русских землячеств?
Впервые за многие годы я наблюдаю вокруг себя почти исключительно приличных русских людей – умных, образованных, позитивно настроенных, уважающих себя и окружающих, имеющих такие ценностные ориентиры, как саморазвитие, творческая реализация… Короче, это просто нормальные люди – такие, какими они и должны быть в нормальных условиях. Секрет прост – все они, как вы уже, наверно, догадались – эмигранты.
Они бежали из смрадного путинского рейха. Половина, как в моем случае, пошла в побег вынужденно, бросив все, потому что соотечественники хотели посадить их в тюрьму, убить, ограбить, унизить. Другая часть сделала это добровольно и целенаправленно. Последние почти все, словно сговорившись, объясняют свое решение желанием избавить детей от окружающего их на родине дерьма, дать возможность вырасти человеком, а не скрепным зомби. Они бежали от ненормальных условий существования.
С одним из таких русских эмигрантов, у меня недавно состоялся непринужденный разговор. Мы задались вопросом о том, почему нигде в мире нет русских общин и землячеств, даже там, где русских очень много? Мой собеседник имел опыт длительного проживания в шести странах. Нигде он не наблюдал ни малейших потуг у русскоязычной диаспоры к объединению хоть в какую-то общность. Пришли к единодушному заключению: если русские уезжают за границу – они бегут от варварского «русского мира», от этой самой общности.
Даже упоротые ватники из среды приблатненного чиновничества, аффилированного с властью бизнеса и системной богемы. Казалось бы, за границей они находят комфорт физический, но для комфорта душевного им целесообразно скучковаться вместе, чтоб шлифануть свои духовные скрепы. Но нет – никаких устойчивых связей, кроме личных, профессиональных, семейных, реже – соседских, между русскими за границей не возникает и не поддерживается в принципе.
Все они испытывают иррациональный подсознательный ужас от необходимости иметь дело с общностью себе подобных. Они уехали потому, что хотят быть подальше от этой подавляющей их личность толпы, и воссоздавать ее здесь в каком-либо виде не желают. И в этом они отличаются от всех прочих народов. Даже с высоты своего очень небольшого опыта могу с абсолютной уверенностью сказать, чем русский эмигрант принципиально отличается от таджикского, китайского, турецкого, ирландского, латиноамериканского и вообще любого другого. Те уезжают из дома ЗА лучшей долей, даже если уезжают вынужденно. И лишь русские всегда бегут ОТ домашнего свинства. Это абсолютно доминирующий, пусть и не всегда осознаваемый императив.
Мой визави высказал подобные соображения, основываясь на эмпирическом опыте и собственной рефлексии. Я же подкрепил его версию историческими аргументами. История русской эмиграции совершенно уникальна и не похожа ни на какую другую. Начало ей положили так называемые невозвращенцы. Попробуйте найти аналог этому слову в любом другом языке! В английском, наверное, ближайшее по смыслу слово будет defector – перебежчик.
Специфика Московского царства после того, как оно сложилось в централизованное государство к XVI веку заключалось в том, что это было государство-концлагерь. Я не пытаюсь оскорбить ничьи патриотические чувства, просто констатирую факт. Понятно, что крепостные крестьяне, рабы, служивые сословия не обладали правом на свободный выезд за рубеж нигде в то время. Но в Московии такого права не имел вообще НИКТО, даже высшая знать, духовенство, купечество, ученые, мореплаватели. Впрочем ученых и мореплавателей тогда не существовало. Поморы – не в счет, они выходили в море исключительно ради промысла и уплывать за границу им, было некуда, не на чем и не за чем.
Всякий подданный царя официально являлся собственностью государства с рождения до смерти и не мог распоряжаться собственной жизнью. Бояре могли распоряжаться чужими жизнями, но не своей. Выезд из царских владений считался тяжким преступлением и карался смертью, если был доказан злой умысел бежавшего против государя. Не удивляйтесь, но поскольку следствие в таких случаях предписывалось проводилось с пристрастием в обязательном порядке, то у всех беглецов на дыбе обнаруживался злой умысел. То есть побег являлся чем-то вроде изощренной формы самоубийства. Такому суровому наказанию подвергались не только лица, пойманные при попытке бежать, но и вернувшиеся из несанкционированной заграничной поездки. Торгашей в этом случае не казнили, а «раскулачивали» и приговаривали к битью кнутом. Правда, эта процедура часто заканчивалось похоронами.
Вы, наверное, спросите: а как же ловили беглецов, если границы Московии были поистине необъятны, а пограничной стражи, не существовало (она появится лишь в 1893 г.)? Поясняю: государство-концлагерь стало возможным исключительно благодаря географическому фактору: транспортные коммуникации в то время были в основном водными. Выходов к морю Московия не имела, что уже естественным образом определяло обособленность государства. Речные же пути вели в никуда: северные реки – в Ледовитый океан, Волга – во внутреннее Каспийское море.
Это – важнейший фактор для понимания как всей средневековой русской истории, так и базиса национального характера. Уникальность русского государства обуславливалась тем, что оно располагалось в речном бассейне, не имевшим выхода в мировой океан. Аналогов подобной изолированной крупной социальной системы просто не существует. Разве что среднеазиатские ханства в бассейнах Сырдарьи и Амударьи, но они никогда не имели сильной государственности и не оказывали ни малейшего влияния на внешний мир.
Оставались дороги сухопутные. Но их было ничтожно мало. Опять же, все дело в географии и климате. Зачем русским дороги, если уже в ноябре реки замерзают и до конца марта можно прекрасно добраться по льду куда угодно санным путем? Тем паче, любые населенные пункты стояли по берегам рек и по ним же были связаны друг с другом. Передвижение вне дорог в болотисто-лесистой местности было абсолютно невозможно (степи находились за пределами страны). Соответственно бежать можно было по тем нескольким столбовым дорогам, что вели через Смоленск (еще не московитский) на запад, а также через Псков и Новгород (формально признающими верховенство московского царя) к балтийским портам. Но дороги на всем протяжении контролировались заставами и сторожевыми разъездами – охранялась не граница государства, носящая весьма условный характер, а именно дорога, по которой можно попасть в страну извне или выбраться из нее. Про восток, думаю, говорить излишне – никакой цивилизации там не существовало, колонизация Урала и Сибири началась позднее.
Дороги охранялись, конечно, не затем, чтобы ловить беглецов, а исключительно потому, что они являлись источником доходов казны. С приезжих купцов брали мыт. Чем больше застав – тем больше дани и взяток те заплатят. И разбойников надо было гнобить, чтоб конкуренцию в дерибане купцов не создавали. Но попутной задачей государевой стражи являлось препятствование утечке из страны «человеческого капитала». Лишь царь по рассмотрении челобитной от просителя мог выдать подорожную грамоту, дающую право на пользование дорогой с целью выезда за пределы страны. Без этого документа любой путешественник считался беглым преступником вне зависимости от того, насколько далеко от границы он схвачен, куда и зачем направлялся. На внутреннее передвижение от пункта А в пункт Б так же нужна была подорожная, но их уже выписывали воеводы, дьяки и прочие уполномоченные на то должностные лица. Само собой, с частных лиц они за аусвайс нещадно драли мзду.
Тюремную суть русского государства раскрывает такая норма, если так можно выразиться, «традиционного права»: иностранцам, будь то дипломаты, купцы или даже члены правящих домов для выезда так же требовалась проездная грамота. То есть любой гость из-за рубежа мог быть взят в заложники и отпущен за выкуп или вообще не отпущен. Показателен такой случай: в 1643 г. в Москву с большим посольством прибыл датский принц Вольдемар для женитьбы на русской царевне Ирине. Все условия брачного договора были согласованы в ходе межгосударственных посольских визитов.
Но дело расстроилось из-за разного отношения к понятию «договор». Если в европейских обычаях было долго и дотошно согласовывать условия сделки, а потом им следовать, то русские предпочитали сначала соглашаться, а потом просто плевать на договоренности. Во-первых, иноземцы за людей не считались в принципе. Во-вторых, источником права в Московии являлся не закон (самого понятия правовой нормы не существовало), а царская воля. Так что сначала московиты согласились, что в браке Вольдемар сохранит протестантскую веру, но по прибытии Вольдемара в Кремль государь Михаил Федорович (первый из Романовых) потребовал от будущего зятя безоговорочного перехода в православие. Когда тот возмутился, его сали принуждать к смене веры силой. Тот в ответ отказался и от женитьбы. Это никого не смутило. В Московии царь решал, кому с кем вступать в брак, тем более, если речь шла о его дочери. Мнение жениха никого не колебало.
Вольдемар пытался бежать, его схватили и вернули в кремлевские палаты. Так он и пробыл в заложниках до самой смерти Михаила в 1645 г., после чего уже новый царь Алексей Михайлович (отец Петра I) выдал Вольдемару подорожную и отпустил с миром. Если такое быдляческое отношение хозяева земли русской проявляли по отношению к коронованным особам, то собственные людишки, включая самых родовитых, для самодержцев были просто живой собственностью, царскими хлопами, находящимися в абсолютной власти монарха.
Вот в таких-то условиях и сформировался феномен невозвращенчества: государь давал подданному право выезда по государственным делам (других быть не могло по определению), а тот не возвращался из командировки. Такой исход можно было предвидеть, поэтому за границу отпускали лишь тех вельмож, у коих в качестве заложников на родине оставались семьи и имущество. Не всегда, но большинстве случаев этого было достаточно. В 1602 году царь Борис Годунов, деятель действительно прогрессивный для варварской Московии, предпринял инициативу отправить на учебу в университеты Германии, Франции и Англии 18 дворянских детей. Невозвращенцами стали все они.
Правда, в связи с чехардой вокруг престола, вспомнили о них только после воцарения Михаила Романова, и в 1613-1621 гг. царские власти предпринимали энергичные попытки разыскать и вернуть на родину беглецов. Но те, естественно, на не рвались на Русь-матушку. Настолько не рвались, что выпускник Кембриджа Никифор Олферьев, сын посольского дьяка Олферия Григорьева, даже поменял веру на англиканскую и стал священником, перейдя таким образом под личное покровительство короля Якоба I, являющегося главой церкви. Трое других русских студентов так же устроились неплохо, даже оставшись православными: Федор Костомаров стал королевским секретарем и служил в Ирландии, Назарий Давыдов и Афанасий Кожухов – представителями Англии в Индии.
Москва требовала выдачи своей собственности, английские власти, рассмотрев требование на самом высшем уровне, отказали. Посулы московских послов вернуться добровольно, получив прощение царя-батюшки и богатые дары, так же силы на невозвращенцев не возымели. Никофору Олферьеву уж точно резона возвращаться не было. За смену веры в Москве полагалось наказание в виде сожжения на костре.
«Утечка кадров» происходила и в ходе командирования Петром I в Европу детей дворянских для обучения в навигантских школах. Однако настоящий взрыв невозвращенчества случился в ходе Заграничного похода. Во время нахождения русской армии во Франции из нее дезертировали около 40 тысяч нижних чинов. Ни один из беглецов в Россию не вернулся, несмотря на просьбы императора Александра I к французскому королю Людовику XVIII изловить и выдать преступников. Генерал граф Федор Васильевич Ростопчин, прославившийся сожжением Москвы в 1812 г., писал своей жене из Парижа:
«До какого падения дошла наша армия, если старик унтер-офицер и простой солдат остаются во Франции, а из конно-гвардейского полка в одну ночь дезертировало 60 человек с оружием в руках и лошадьми. Они уходят к фермерам, которые не только хорошо платят им, но еще отдают за них своих дочерей».
Сам Ростопчин при этом в 1814-1823 гг. проживал в Париже, а своего друга, бывшего российского посла, обитающего в Лондоне, Семена Воронцова просил похлопотать о получении британского подданства: «Сделайте же мне одолжение, устройте, чтобы я имел какой-либо знак английского уважения, шпагу, вазу с надписью, право гражданства».
Дворянам становиться невозвращенцами уже смысла не было, поскольку еще в 1762 г. император Петр III подписал Манифест о вольности дворянства. По данному акту впервые в истории России дворяне освобождались от обязательной гражданской и военной службы, могли по своему желанию выходить в отставку и беспрепятственно выезжать за границу. Впервые русские люди (малая их часть) получили человеческие права. Правда, подавляющее большинство дворян не имело возможности шиковать по заграницам, поскольку их источником существования была служба. Но это уж вопрос не права, а возможностей.
Честь быть основоположником русской революционной эмиграции принадлежит декабристу Николаю Тургеневу. Он тоже стал невозвращенцем. Узнав о привлечении его к следствию по делу о мятеже, он отказался возвращаться в Россию для суда из Лондона, где находился в командировке. Был приговорен заочно к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. По правде говоря, Тургенев не участвовал в восстании и вообще давно отошел от заговорщицких дел, но все равно попал под раздачу.
Первым интеллигентом-невозвращенцем считается профессор московского университета Владимир Сергеевич Печерин. Выбив себе в 1836 г. научную командировку в Берлин в летние каникулы якобы для работы над диссертацией, он из нее не вернулся. В России Печерина судили, но поскольку наказать его никакой возможности не нашли, суд удовлетворился лишением его всех прав и состояний российского подданства, которые беглецу были уже без надобности.
В 40-50-е годы революционная эмиграция носит единичный характер, тем не менее она уже существует. Наиболее видные эмигранты – Герцен, Бакунин, Огарев, Энгельсон. По мере роста революционного движения с 60-х годов эмиграция дворянская уступает место разночинной. После разгрома польских восстаний в 1831 г. и 1864 г. в Европу хлынул поток польских беглецов, но к русской эмиграции их относить, конечно, некорректно. Мы изучаем не всех беглецов с территории империи (тут можно вспомнить массовый исход населения Кавказа и Кубани в Порту), а именно русскую эмиграцию.
То же самое относится к еврейской эмиграции, начавшейся в середине XIX. Мощный импульс ей придают погромы 1881 г., спровоцированные убийством Александра II, в 90-е годы она достигает своего пика. В то же время за волной либеральной эмиграции в Европу нарастает волна эмиграции социалистической – анархисты, эсеры, эсдеки спасаются от преследования царской охранки.
Ах да, чуть не забыл о религиозных беженцах. Скрепоносные пропагандоны, рисуя идиллическую картину «России, которую мы потеряли», любят подчееркивать, что в империи практически не существовало национальной нетерпимости. Не спорю, но это лишь потому, что и национальное сознание еще недостаточно сформировалось как у русских, так и у инородцев. Но это с лихвой окупалось разгулом нетерпимости религиозной. Дело в том, что по Уголовному Уложению 1845 г. распространение нехристианского вероучения, например, наказывалось плетьми, клеймением и каторжными работами в крепостях на срок 8-10 лет. Всего в Уложении насчитывалось 32 статьи, предусматривающих различные кары за отход от единственно верного православного учения. Так что ничего удивительного, что из России началось массовое бегство протестантов-менонитов, молокан, духоборов, баптистов, всевозможных сектантов.
Наконец, по итогам революции и гражданской войны Россию покинуло около двух миллионов человек – это принято называть первой волной эмиграции, хотя она была далеко не первой, просто очень массовой. Стоит отметить, что белым эмигрантам удалось создать и десятилетия поддерживать в жизнеспособном состоянии устойчивые социальные структуры – политические и военизированные организации, учебные заведения, издательства, культурные центры, трудовые общины, даже собственную церковь – РПЦЗ. Это обусловлено тем, что белые бежали не от притеснений «своего» государства, а вследствие его катастрофы. Поэтому они и старались воспроизводить на новом месте пребывания матрицу потерянного государства. Многие даже видели в этом миссию по его сохранению с целью возрождения в будущем в старых пределах. Ничего подобного мы не замечаем у русских эмигрантов ни в прошлом, ни в будущем.
В СССР происходит реставрация модели страны-концлагеря, вновь появляются невозвращенцы, а само невозвращенчество объявляется уголовным преступлением («Измена Родине», 58-я статья УК). Но людишки бегут. Так в 1929 г. Иностранный отдел ОГПУ официально насчитал 277 невозвращенцев, из них 34 были членами партии. Возвращается в обиход и практика заложничества, и допросы с пристрастием – все скрепно, традиционно, высокодуховно. Ноу-хау совка – принудительные депортации «классово чуждого» элемента. Положа руку на сердце, это можно даже счесть актом гуманизма: уж лучше уплыть на «философском пароходе» из Петрограда в Европу, нежели на барже в Магадан.
Ничего удивительного, что вторая, военная волна эмиграции оказалась очень массовой. Существуют разные оценки ее численности, но думаю, что цифра в миллион советских граждан, променявших социалистический рай в победившей родине на капиталистический ад, не будет завышенной. Невозвращенцев оказалось бы, конечно, гораздо больше, но времена настали суровые, «перемещенных лиц» депортировали в СССР принудительно. Эмигранты второй волны состояли не только из коллаборационистов, но и из военнопленных, как-то ускользнувших на Запад, и остарбайтеров, затерявшихся в послевоенной суматохе. Значительную часть беглецов составляли украинцы и прибалты. По категории «русская эмиграция» они не проходят, но упомянуть их следует так же, как выше поминались поляки и евреи.
Третья волна эмиграции происходила в течении 60-80-х годов: это были как невозвращенцы, так и легальные эмигранты-евреи, диссиденты, творческая интеллигенция и депортированные за рубеж «идейные враги». Считается, что Советский Союз таким образом избавился от чуждого элемента в размере полумиллиона человек.
Четвертая волна бегства пришлась на 90-е годы и насчитывает, как считается, миллион человек. Это единственная в истории России эмигрантская волна без политической подоплеки. В основном уезжают недоуехавшие евреи, научные работники, коммерсанты, творческая интеллигенция, бандиты, проститутки и женщины, вступившие в брак с иностранцами (это было тогда очень модно). У эмигрантов 90-х преобладала экономическая мотивация.
Но все возвращается на круги своя в XXI веке. Количество бежавших от путинского режима, давшему старт пятой волне, уже стало рекордным, превысив численность белой эмиграции 1918-1922 гг. Сейчас считаются покинувшими родину примерно 2,5 миллиона человек. Правда, если белая эмиграция была практически одномоментной, то путинская статистически размазана на два десятилетия.
ВЫВОДЫ: из заметных стран-доноров эмиграции большинство людей уезжают по множеству причин: кто-то бежал от войны (афганцы, палестинцы и т.д.); итальянцев традиционно гнала за океан безработица; ирландцев – голод и колониальная политика Британии. Китайская эмиграция по сути являлась формой экспорта дешевой рабочей силы. Латиноамериканцы в США, негры и арабы в ЕС, среднеазиаты в РФ стремятся попасть и легализоваться в подавляющем большинстве с целью трудоустройства. Наконец, существенным фактором, принуждающим людей покидать свои страны, является перенаселение (Индия, Бангладеш, Пакистан, Ближний Восток) или природные катаклизмы, как то засухи, наводнения, извержения вулканов, цунами и катастрофические изменения климата.
И лишь из одной страны – Московии/Российской империи/СССР/РФ люди уже которое столетие бегут почти исключительно по одной причине – от подавляющего их государства, от безумных общественных порядков. Причем, когда «русский мир» расширялся, охватывая новые ареалы, это несло с собой и новшества в сфере эмиграции. Так чисто русский ранее феномен невозвращенчества становится характерным для стран социалистического блока в послевоенный период.
Вот поэтому нынешняя русская эмиграция носит атомизированный и рассеянный характер – ей нечего и незачем воспроизводить на чужбине, а запроса на создание альтернативного государства (Другой России, АнтиРоссии) не существует. По крайней мере пока. Но не исключаю, что идея сетевой внегосударственной социальной структуры, как формы существования диаспоры, может получить развитие, когда количество эмигрантов вырастет на порядок.
https://kungurov.livejournal.com/292349.html